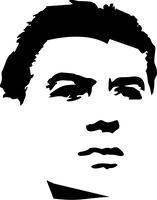Гасан Гусейнов
«Переубедимость – признак цивилизованного человека»
Фото: Кристина Чернова
Гасан Гусейнов – доктор филологических наук и профессор Свободного университета рассказывает, зачем выбирают слово года, как выглядел общественно-политический дискурс в разные эпохи русской истории и можно ли пользоваться штампами.
Зачем выбирают слово года?
— В современных СМИ есть уже установившаяся традиция называть, например, пять главных книг года, десять фильмов года, лучший сериал года, выбирать мисс Бразилия, мисс Нижегородская область и мисс Вселенная. И каждый человек понимает, что это, с точки зрения вечности и здравого смысла, абсолютная чушь. Но вместе с тем это создает движуху. Люди пытаются ответить на в сущности невозможный вопрос, но рациональное состоит в том, что это подведение итогов года. Понятно, что люди говорят о том, что их задевает больше всего. С этой точки зрения очень интересно читать списки таких слов года за минувшее десятилетие.
В 2020 году в мире все ясно, потому что в этом году есть COVID-19. Но язык – это сложная сущность, которая живет одновременно в нескольких временных зонах. Есть зоны секундной стрелки, пандемия – это секундная стрелка. И эта секундная стрелка может совпасть с минутной стрелкой. Пандемия – это секундная стрелка, совпавшая с минутной. Но есть часовая стрелка. Что означает часовая стрелка? Она означает, например, что на проблему климата, может, и не обращали бы такого внимания, и Грета Тунберг не стала бы человеком года в 2019 году, если бы эта проблема не накапливалась перед этим несколько десятилетий, и если бы не появилась фигура Дональда Трампа, который объявил, что вообще все это вы придумали, ничего нет и идите к черту с климатом. Вот в эту минуту оказалось, что фигура, противостоящая этому государственному лицу – главному человеку главной страны современного мира, задела за живое очень многих людей. Если бы не отрицание этой темы со стороны Трампа, если бы не постепенное многолетнее накопление зеленой проблематики, то, конечно, это слово так бы не выстрелило.
В 2020 году в мире все ясно, потому что в этом году есть COVID-19. Но язык – это сложная сущность, которая живет одновременно в нескольких временных зонах. Есть зоны секундной стрелки, пандемия – это секундная стрелка. И эта секундная стрелка может совпасть с минутной стрелкой. Пандемия – это секундная стрелка, совпавшая с минутной. Но есть часовая стрелка. Что означает часовая стрелка? Она означает, например, что на проблему климата, может, и не обращали бы такого внимания, и Грета Тунберг не стала бы человеком года в 2019 году, если бы эта проблема не накапливалась перед этим несколько десятилетий, и если бы не появилась фигура Дональда Трампа, который объявил, что вообще все это вы придумали, ничего нет и идите к черту с климатом. Вот в эту минуту оказалось, что фигура, противостоящая этому государственному лицу – главному человеку главной страны современного мира, задела за живое очень многих людей. Если бы не отрицание этой темы со стороны Трампа, если бы не постепенное многолетнее накопление зеленой проблематики, то, конечно, это слово так бы не выстрелило.
Как выглядел общественно-политический дискурс в дореволюционной, советской и постсоветской России?
В 1912 году в Думе обсуждалась новая национальная (инородческая) политика, была попытка преодолеть те горьковские «свинцовые мерзости дикой русской жизни», «тюрьму народов», как ее называли, чтобы прежде всего сама корона почувствовала себя лучше и чтобы после революционных передряг с 1905 по 1912 годы пойти куда-то вместе обновленным многонациональным сообществом. Это были народы, некоторые из которых обладали минимальной самостоятельностью, но вместе с тем политически были совершенно ничтожны и бесправны. Украинцы всячески преследовались в Российской империи, их язык считался каким-то деревенским жаргоном. В лучшем положении были поляки, еще лучше было финнам, или чухонцам, как их называли. В число инородцев, кстати, не включали евреев, которые были еще более бесправными, жили в черте оседлости и т.д. Мы бы с вами столкнулись с таким языком, в котором использовались слова, которые впоследствии назовут этнофолизмами. Но говорить уже начали, что нужно немножко смягчить политику в отношении инородцев. С ними надо аккуратнее, что ли, не совсем вот так топить и топтать их. Все тогдашние думские речи о межнациональных отношениях бесконечно устарели, но больше никогда в таком стиле в России в ХХ веке не говорили.
Пройдет всего несколько лет, и Россия как многонациональная империя взорвется. Начнется разговор именно о тюрьме народов. Начнется разговор о том, что, вообще говоря, есть какая-то другая форма насилия, кроме национальной, и эта другая форма насилия, например, классовая. И на наших глазах язык описания страны, государства, отношения между народами за несколько лет превратится в язык голого чистого насилия. Уничтожение целых классов – дворянства, священников. Искоренение всей религиозной жизни, потому что все народы равны. Но язык ненависти – революционного террора и контрреволюционного сопротивления, и, конечно, язык гражданской войны – распространится повсеместно.
А дальше начнется риторика дружбы народов, расцвета народов, расцвета нации. Одновременно у нас приходит язык абсолютно неприкрытой ненависти, которая сама себя прикрывает тем, что она классовая. А с другой стороны, язык такого обласкивания, утешения меньшинств, заигрывание с бывшими обитателями тюрьмы народов. Какое-то время один народ будет считаться плохим – русские. В ленинское время великорусский шовинизм будет считаться вещью гораздо худшей, чем любой отдельно взятый национализм. Большевики говорят: «Россия – это плохо, потому что нами правил царизм, нами правили все эти отвратительные международные династии, которые надо ликвидировать, и вот сейчас русский народ вместе с другими народами создаст новую, совершенно прекрасную жизнь, в которой не будет иметь значения, кто какого рода-племени и все будут равны. И все, говорили людям, будут дружить и все будут любить друг друга. И это главный наш лозунг». Но в подтексте начнется совсем другое. Все народы будут разделены по иерархии: будут народы побольше, у которых будут национальные республики, будут народы поменьше, у которых будут какие-то автономии внутри этих республик. Грузины будут «главнее» абхазов и армян в Грузии. Азербайджанцы будут главнее курдов, талышей или живущих в Азербайджане армян и евреев. И так в каждой республике. Схема эта будет существовать очень долго, но сама тема останется под запретом до конца 1980-х годов. Но структура государства будет такой, в которой главным является этническое происхождение человека. На словах – дружба народов, на деле – стравливание народов.
И в язык войдет двоемыслие, оно будет постепенно накапливаться. С одной стороны, мы говорим, что у нас все равны, с другой – мы знаем, что некоторые менее равны, чем другие. По-прежнему останется так называемый «еврейский вопрос» – не будет уже черты оседлости, но вместе с тем будет ограничена возможность получить высшее образование. Это будет время высокого сталинизма, если можно так выразиться. Центральная тема советского языка – мы говорим одно, мы думаем другое, мы действуем третьим образом. Мы говорим о народе, но мы этот народ истребляем. Мы говорим о расцвете колхозов, но понимаем, что это слово «колхоз» съело крестьян. Уничтожали кулачество как класс, а истребили крестьянство, заменив его колхозниками. И мы говорим, что человек труда у нас главное, но у нас главное не человек труда, а человек распределения. К концу советского времени появилось уже довольно много работ, которые описывают этот язык, и в центре этого послесталинского советского языка, или советского дискурса, конечно, стоит запрет на обсуждение главного. Вот есть главная тема года, главная тема страны, главная тема промышленности, главная тема политики, вот она и запрещена. Всегда какая-то болтовня о чем угодно: о других странах, о политике где-то там у кого-то, о том, как преследуют рабочих в Америке. Тяжелейшая проблема не говорить о главном до сих пор присуща нашему обиходу. И – всегдашнее подозрение: да сам ли ты говоришь все это? Да не подкупили ли тебя иноземцы?
Пройдет всего несколько лет, и Россия как многонациональная империя взорвется. Начнется разговор именно о тюрьме народов. Начнется разговор о том, что, вообще говоря, есть какая-то другая форма насилия, кроме национальной, и эта другая форма насилия, например, классовая. И на наших глазах язык описания страны, государства, отношения между народами за несколько лет превратится в язык голого чистого насилия. Уничтожение целых классов – дворянства, священников. Искоренение всей религиозной жизни, потому что все народы равны. Но язык ненависти – революционного террора и контрреволюционного сопротивления, и, конечно, язык гражданской войны – распространится повсеместно.
А дальше начнется риторика дружбы народов, расцвета народов, расцвета нации. Одновременно у нас приходит язык абсолютно неприкрытой ненависти, которая сама себя прикрывает тем, что она классовая. А с другой стороны, язык такого обласкивания, утешения меньшинств, заигрывание с бывшими обитателями тюрьмы народов. Какое-то время один народ будет считаться плохим – русские. В ленинское время великорусский шовинизм будет считаться вещью гораздо худшей, чем любой отдельно взятый национализм. Большевики говорят: «Россия – это плохо, потому что нами правил царизм, нами правили все эти отвратительные международные династии, которые надо ликвидировать, и вот сейчас русский народ вместе с другими народами создаст новую, совершенно прекрасную жизнь, в которой не будет иметь значения, кто какого рода-племени и все будут равны. И все, говорили людям, будут дружить и все будут любить друг друга. И это главный наш лозунг». Но в подтексте начнется совсем другое. Все народы будут разделены по иерархии: будут народы побольше, у которых будут национальные республики, будут народы поменьше, у которых будут какие-то автономии внутри этих республик. Грузины будут «главнее» абхазов и армян в Грузии. Азербайджанцы будут главнее курдов, талышей или живущих в Азербайджане армян и евреев. И так в каждой республике. Схема эта будет существовать очень долго, но сама тема останется под запретом до конца 1980-х годов. Но структура государства будет такой, в которой главным является этническое происхождение человека. На словах – дружба народов, на деле – стравливание народов.
И в язык войдет двоемыслие, оно будет постепенно накапливаться. С одной стороны, мы говорим, что у нас все равны, с другой – мы знаем, что некоторые менее равны, чем другие. По-прежнему останется так называемый «еврейский вопрос» – не будет уже черты оседлости, но вместе с тем будет ограничена возможность получить высшее образование. Это будет время высокого сталинизма, если можно так выразиться. Центральная тема советского языка – мы говорим одно, мы думаем другое, мы действуем третьим образом. Мы говорим о народе, но мы этот народ истребляем. Мы говорим о расцвете колхозов, но понимаем, что это слово «колхоз» съело крестьян. Уничтожали кулачество как класс, а истребили крестьянство, заменив его колхозниками. И мы говорим, что человек труда у нас главное, но у нас главное не человек труда, а человек распределения. К концу советского времени появилось уже довольно много работ, которые описывают этот язык, и в центре этого послесталинского советского языка, или советского дискурса, конечно, стоит запрет на обсуждение главного. Вот есть главная тема года, главная тема страны, главная тема промышленности, главная тема политики, вот она и запрещена. Всегда какая-то болтовня о чем угодно: о других странах, о политике где-то там у кого-то, о том, как преследуют рабочих в Америке. Тяжелейшая проблема не говорить о главном до сих пор присуща нашему обиходу. И – всегдашнее подозрение: да сам ли ты говоришь все это? Да не подкупили ли тебя иноземцы?
«Центральная тема советского языка – мы говорим одно, мы думаем другое, мы действуем третьим образом», — Гасан Гусейнов
В конце 1980-х годов звучат первые человеческие, нормальные, понятные слова. Ключевым словом 1987-го года, если бы тогда выбирали слово года, было бы слово «покаяние». Покаяться – это не значит перед кем-то извиниться, а просто про себя сказать: то, что я делал, было неправильно. Я раскаиваюсь в содеянном, и я каюсь перед высшими силами, и я прошу прощения у своих будущих потомков. Я обещаю так больше не делать. Этот шанс был, к сожалению, упущен за 90-е годы, потому что послеперестроечный человек не нашел языка для безжалостного разговора с самим собой. Была в каком-то смысле повторена ошибка первой оттепели послесталинского времени, когда Сталина исключили из обсуждения чего бы то ни было, а сталинский язык остался, но не был проанализирован. Идеология не была подвергнута действительно глубокому разбору, и начиная со школы и кончая университетами, потом всю жизнь никто никогда не спрашивал: «Подождите, если все это было неправильно, что же именно там было неправильно? Почему именно это было неправильно?». И это же повторилось в 90-е годы, когда не была проведена люстрация, когда не были созданы условия для невозвращения к власти чекистской номенклатуры.
Советский Союз распустили, но трагедией было вовсе не это, а массовое непонимание, что трагедией было как раз торжество СССР, а не его роспуск. Как и прежде, трагедией было не то, что проделывал лично Сталин и его палачи, а то, что делали простые советские люди, писавшие друг на друга доносы, например, или занимавшие «жилплощадь» врагов народа после ареста, а теперь – пытающиеся запретить другим людям и целым народам вспоминать о своем горе. В итоге внутреннего табу на покаяние – жалость к себе, требование от всех уважать нас. «Пусть меня боятся, лишь бы только у меня настроение не испортилось».
Внешнее выражение этого – стилистическое: люди в России путают разнузданность, агрессивность, дерзость высказываний и – стремление к истине. Вся система средств массовой информации в России построена на крике, на агрессивном утверждении своего права вещать. Вы иногда видите, что язык, вместо инструмента понимания, используется как инструмент агрессии и выбивания показаний. Мы живем в техническом смысле в гораздо более свободное время, а в интеллектуально-языковом смысле – в гораздо более несвободное, агрессивное время, когда просто не хочется говорить и слушать.
Советский Союз распустили, но трагедией было вовсе не это, а массовое непонимание, что трагедией было как раз торжество СССР, а не его роспуск. Как и прежде, трагедией было не то, что проделывал лично Сталин и его палачи, а то, что делали простые советские люди, писавшие друг на друга доносы, например, или занимавшие «жилплощадь» врагов народа после ареста, а теперь – пытающиеся запретить другим людям и целым народам вспоминать о своем горе. В итоге внутреннего табу на покаяние – жалость к себе, требование от всех уважать нас. «Пусть меня боятся, лишь бы только у меня настроение не испортилось».
Внешнее выражение этого – стилистическое: люди в России путают разнузданность, агрессивность, дерзость высказываний и – стремление к истине. Вся система средств массовой информации в России построена на крике, на агрессивном утверждении своего права вещать. Вы иногда видите, что язык, вместо инструмента понимания, используется как инструмент агрессии и выбивания показаний. Мы живем в техническом смысле в гораздо более свободное время, а в интеллектуально-языковом смысле – в гораздо более несвободное, агрессивное время, когда просто не хочется говорить и слушать.
Зачем путинских технократов обучают риторике?
— Риторика – это вовсе не то, что под ней подразумевают эти люди (российские власти – прим. ЖН). Они думают, что с помощью языка можно обмануть кого-то и что можно всегда обманывать, но это не так. Можно недолгое время обманывать всех, можно очень долго обманывать многих, но нельзя все время обманывать всех. И здесь в центре той риторики, о которой идет речь, находится идея манипулирования людьми. Действительно, можно привлечь многих людей какой-то замечательной речью, есть такие приемы. Но все древние учебники нам говорят, что риторика – это в первую очередь искусство понимания собеседника, это часть диалога. Мы прекрасно знаем, что диалога-то никакого нет, потому что диалог происходит не для того, чтобы кого-то убедить в том, что я прав.
Диалог – это разговор. Это слово и переводится на русский языка как разговор многих собеседников, даже одного человека с самим собой – это тоже разговор, цель которого – достижение истины. И никто из участников диалога не заявляет о себе, что я-то и есть носитель истины. Поэтому руководители компаний, руководители государств, которые думают, что есть какие-то волшебные приемы, с помощью которых они свои мудрые мысли будут доносить до каких-то подданных, просто очень наивные люди, не очень умные люди. Потому что, наоборот, диалог – это возможность, способ для того, в чьих руках находится власть, услышать нечто и убедиться в чем-то, что не соответствовало его прежним представлениям. Переубедимость – признак цивилизованного человека. Если нет диалога, то нет и риторики.
Диалог – это разговор. Это слово и переводится на русский языка как разговор многих собеседников, даже одного человека с самим собой – это тоже разговор, цель которого – достижение истины. И никто из участников диалога не заявляет о себе, что я-то и есть носитель истины. Поэтому руководители компаний, руководители государств, которые думают, что есть какие-то волшебные приемы, с помощью которых они свои мудрые мысли будут доносить до каких-то подданных, просто очень наивные люди, не очень умные люди. Потому что, наоборот, диалог – это возможность, способ для того, в чьих руках находится власть, услышать нечто и убедиться в чем-то, что не соответствовало его прежним представлениям. Переубедимость – признак цивилизованного человека. Если нет диалога, то нет и риторики.
«Мы живем в техническом смысле в гораздо более свободное время, а в интеллектуально-языковом смысле – в гораздо более несвободное, агрессивное время, когда просто не хочется говорить и слушать», — Гасан Гусейнов
Штампы в языке.
— Плохо, когда главная мысль человека состоит из штампа. Есть известная, уже ставшая штампом цитата: «Вам, господа, нужны великие потрясения; нам нужна великая Россия» (цитата из выступления Петра Столыпина – прим. ЖН). В каком порядке хочешь, в таком и говоришь. Вот это штамп. Мы прекрасно знаем, что говорящий – это и есть человек, который в итоге получил великие потрясения вместо великой России, поэтому повторять за ним эти слова – верх идиотизма. Но какие еще могут быть штампы? Мы прекрасно их знаем: «не раскачивайте лодку», «стабильность», «коней на переправе не меняют». Какая переправа, какие кони? То есть мы понимаем, что с помощью этого штампа человек хочет сказать: нет, я вцепился руками и не выпущу, поэтому меня не надо менять на переправе. Это все, конечно, смешно.
Но есть другая сторона и она тоже важна. Нельзя обойтись совсем без штампов, потому что штампы – это сигналы. Если их совсем не будет, мы не будем знать вообще, с кем мы говорим. Человек часто произносит штампы для того, чтобы дать сигнал: вот я это говорю, и вы должны знать, что я тоже свой, вы понимаете, что я имею в виду. Конечно, тут тоже нельзя переборщить. И для меня одним из таких негативных штампов является, скажем, употребление словосочетания «девяностые годы»: «что, вы хотите, как в 90-е годы?» , то есть лучшие годы и годы свободы. Другое дело, что мы ими не воспользовались и чем они обернулись, но людям пытаются внушить мысль, что свобода – это плохо, а холуйство – хорошо. Что инициатива – это плохо, предпринимательство какое-нибудь – это плохо, а вот хорошо работать охранником, потому что ты при деле, ты беспрерывно борешься со всеми за стабильность.Вот это штамп, за которым стоит огромная национальная проблема, если угодно. Вот такая вот, как сейчас говорят федеральная проблема, проблема федерального масштаба. Штампы нужны, но ими нельзя выражать главную свою мысль, она должна быть не штампованная. Она должна быть своей.
Но есть другая сторона и она тоже важна. Нельзя обойтись совсем без штампов, потому что штампы – это сигналы. Если их совсем не будет, мы не будем знать вообще, с кем мы говорим. Человек часто произносит штампы для того, чтобы дать сигнал: вот я это говорю, и вы должны знать, что я тоже свой, вы понимаете, что я имею в виду. Конечно, тут тоже нельзя переборщить. И для меня одним из таких негативных штампов является, скажем, употребление словосочетания «девяностые годы»: «что, вы хотите, как в 90-е годы?» , то есть лучшие годы и годы свободы. Другое дело, что мы ими не воспользовались и чем они обернулись, но людям пытаются внушить мысль, что свобода – это плохо, а холуйство – хорошо. Что инициатива – это плохо, предпринимательство какое-нибудь – это плохо, а вот хорошо работать охранником, потому что ты при деле, ты беспрерывно борешься со всеми за стабильность.Вот это штамп, за которым стоит огромная национальная проблема, если угодно. Вот такая вот, как сейчас говорят федеральная проблема, проблема федерального масштаба. Штампы нужны, но ими нельзя выражать главную свою мысль, она должна быть не штампованная. Она должна быть своей.
Поделитесь этим интервью в своих соцсетях: