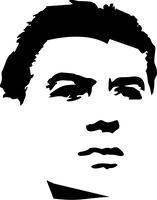Мария Эйсмонт
«Оперативники в колонии спрашивают про Навального и Беларусь»
Фото из личного архива
Мария Эйсмонт – российский адвокат, представляющий интересы активиста Константина Котова, который осужден по статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов. Мария начала адвокатскую практику чуть менее трех лет назад, и в основном занимается политическими делами. Константин Котов стал лауреатом премии Немцова за смелость 2020.
— Вы работали журналистом. Почему вы решили переквалифицироваться и стать адвокатом?
— Мне очень часто задают этот вопрос, и я так и не научилась давать на него ответ, кроме правдивого. А правдивый ответ звучит так, что, наверное, на фоне кризиса среднего возраста мне просто захотелось что-то поменять, и я до конца не могу ответить, почему. Так получилось.
— Вы не жалеете?
— Бывают моменты, когда я думаю, зачем было уходить из журналистики в профессию, где практически ничего невозможно. Журналистика очень проблемная отрасль, но там, как мне кажется, все равно сейчас есть много живого, настоящего. Много успешных и читаемых СМИ, классных расследований, репортажей, которые меняют отношение к теме. Но бывают одни моменты, бывают другие, а в целом, честно говоря, я не задумываюсь.
— Вы ведете только дела с политической подоплекой или совершенно разные дела?
— Разные, но в основном с политической подоплекой.
— Почему?
— Во-первых, так получается, во-вторых, мне интереснее дела, где есть идеологический компонент, а не простая бытовуха. Хотя с точки зрения юриспруденции в каждом деле есть что-то интересное для юриста. Многие говорят, что в неполитических делах можно большего добиться. Хотя тоже гораздо меньшего, чем если бы у нас была другая судебная система.
«Это унизительно для общества, когда все завязано на одного человека, который сидит миллионы лет», — адвокат Мария Эйсмонт о том, почему обращаться к Путину можно, но бессмысленно.
— Nemtsov Foundation (@NemtsovF) September 30, 2020
Большой разговор Жанны Немцовой с ней: https://t.co/TzvFBakWRg pic.twitter.com/WZLq7YkjVv
— Считаете ли вы, что в России роль адвокатов по политическим делам сводится в основном к паллиативной помощи?
— Во многом к паллиативной помощи. При этом паллиативная помощь – это тоже очень важная помощь. Но не только, не обязательно. Еще другая важная роль, как мне кажется – это освещение процесса. Но это касается в основном действительно резонансных политических процессов. Адвокат помогает осветить процесс, как человек, который обладает доступом к материалам дела, как человек, который может объяснить что-то журналистам, как человек, который задает вопросы, в том числе от имени общества. То есть, это еще помощь в выведении на белый свет того, что из себя представляет наша судебная система, и в этом смысле мы играем важную роль. Когда ты задаешь вопрос, а тебе не дают ответа, когда ты приводишь десять свидетелей, а их не допрашивают, люди понимают, что да, это не есть настоящее правосудие. А если бы адвокат просто сидел и ничего не делал, со всем соглашался, то, может быть, это было бы не так очевидно.
— Какую роль играет общественный резонанс?
— Каждое дело индивидуально. Нельзя сказать, что резонанс всегда приводит к чему-то. Есть дела, которые требуют резонанса, это те дела, которые мы называем политическими. Они касаются либо известных личностей, либо преследований за выражение своего мнения и участие в мирном протесте. Дело Кости Котова (Константин Котов – активист, осужденный на 1,5 года колонии по обвинению в неоднократном нарушении установленного порядкаорганизации или проведения митинга – прим. ЖН), дело Юлии Галяминой, «московское дело». Такие дела есть в Ингушетии, в Северной Осетии. Есть дело «Нового величия», которое тоже показывает, что делает государство. Оно просто преследует молодежную тусовку, которая собиралась и разговаривала о политике.
— Обращение к президенту бесполезно?
— С моей точки зрения абсолютно бесполезно. Я не знаю ни одного случая, когда бы это сработало.
«Обращения к Путину бесполезны. Я не знаю ни одного случая, когда бы это сработало», — Мария Эйсмонт
— Мне кажется, в случае с Константином Котовым это сработало. Журналист «Дождя» спросил у Путина на пресс–конференции по поводу дела Котова, и Путин поручил Генпрокуратуре проверить обоснованность приговора, и врезультате срок был сокращен с 4 лет до 1,5 лет.
— Из того, что вы сказали, правда только то, что журналист «Дождя» Антон Желнов действительно задал такой вопрос Путину, и Путин попросил разобраться. Вместе с тем давайте посмотрим, что на самом деле было и что такое это «разобраться». В определении Конституционного суда, может быть, не настолько очевидно, но все равно читалось, что Котов вообще не должен был быть осужден в принципе, поскольку любая мирная акция в той или ной степени мешает движению граждан. Более того, осудить можно человека только за его конкретные действия, которые привели к общественно опасным последствиям. А действия Котова все видели, потому что все видели эту видеозапись. Он вышел из подземного перехода, прошел в течение 38 секунд вглубь сквера к памятнику героев Плевны, и там его задержали полицейские. Все, на этом его действия 10-го августа 2019 года начались и сразу закончились.
Путин говорит разобраться, а человека оставляют в колонии, запрашивая сначала год, а потом полтора. Вот так и разбираются. У меня есть совсем другая информация по поводу того, что разобрались именно так. Может быть, если бы не было поручения разобраться, послушали бы Конституционный суд.
Путин говорит разобраться, а человека оставляют в колонии, запрашивая сначала год, а потом полтора. Вот так и разбираются. У меня есть совсем другая информация по поводу того, что разобрались именно так. Может быть, если бы не было поручения разобраться, послушали бы Конституционный суд.
— В общем, обращение к Путину, это опасная инициатива?
— Я бы не сказала, что опасная. Когда меня спрашивают: вот мы хотим обратиться к президенту, – я всегда говорю, послушайте, ваше право – защищать себя любыми не запрещенными законом способами. В том числе, вы хотите, вы чувствуете, что хотите попробовать этот способ, конечно, ради Бога. Я никогда не отговариваю. Когда спрашивают мое мнение, я считаю, что это бессмысленно. Конкретно Президент Путин стоит за той системой, которую мы наблюдаем, в которой 0,2% оправдательных приговоров, десятки абсолютно идентичных бредовых постановлений по административным делам в отношении десятков людей, которые выходят на улицу. Это суд, что ли?
— На фестивале документального кино «Артдокфест» в этом году будет показан фильм «Котлован», который целикомсостоит из обращений граждан к Путину. Почему все же людям приходит в голову мысль обратиться к Путину, почемуони не осознают, что за судебной Россией стоит этот человек, и он ее сконструировал в таком виде, в каком она сейчассуществует?
— Я считаю, что российское общество созрело для того, чтобы иметь своих представителей во власти, чтобы требовать справедливого суда, участвовать в политической жизни. Это унизительно для общества, когда все завязано на одного человека, который сидит миллионы лет, целое поколение выросло и стало взрослым при нем.
Почему люди обращаются, понять можно, хотя мне вообще не очень нравится эта тема про обращения к Путину. Если вас, например, захватят в заложники, вы тоже будете общаться с человеком, который вас захватил, а как еще, вы тоже будете у него отпрашиваться выйти куда-нибудь – покурить, в туалет и так далее. А как еще? Но это плохо, это неправильно. Какое отношение имеет президент к суду? Суд должен быть независимым. Я понимаю, что это звучит наивно и глупо, если знать, в каком состоянии на самом деле находится суд.
Но по-хорошему, как у нас говорят, в прекрасной России будущего суд должен быть независимым. И совершенно неважно, кто будет президентом, и будет ли вообще президент или это будет парламент, потому что в стране, которую многие из нас хотят и которую российские люди вполне заслуживают должен быть такой суд, где каждый судья решает, исходя из обстоятельства дела, своего внутреннего убеждения, закона и совести. И плевать, кто там сидит в Кремле, и вообще есть ли там кто.
Почему люди обращаются, понять можно, хотя мне вообще не очень нравится эта тема про обращения к Путину. Если вас, например, захватят в заложники, вы тоже будете общаться с человеком, который вас захватил, а как еще, вы тоже будете у него отпрашиваться выйти куда-нибудь – покурить, в туалет и так далее. А как еще? Но это плохо, это неправильно. Какое отношение имеет президент к суду? Суд должен быть независимым. Я понимаю, что это звучит наивно и глупо, если знать, в каком состоянии на самом деле находится суд.
Но по-хорошему, как у нас говорят, в прекрасной России будущего суд должен быть независимым. И совершенно неважно, кто будет президентом, и будет ли вообще президент или это будет парламент, потому что в стране, которую многие из нас хотят и которую российские люди вполне заслуживают должен быть такой суд, где каждый судья решает, исходя из обстоятельства дела, своего внутреннего убеждения, закона и совести. И плевать, кто там сидит в Кремле, и вообще есть ли там кто.
«Недавно два судьи спросили меня о люстрации. Кто-то из них начинает понимать, что возможно некое после», — Мария Эйсмонт
— Почему суд кассационной инстанции принял решение оставить Константина Котова под стражей?
— Мне кажется, что скорее повлияли события в Хабаровске или в Беларуси, которые всех, кто проходит по делам, касающимся свободы собраний, делают уязвимыми. Все следят за Беларусью и за Хабаровском, за этими совершенно потрясающе мирными, не насильственными, массовыми, долгими и неожиданными для многих уличными протестами. Дело Котова касается уличных протестов. Понятно, что отпустить его на этом фоне, может быть, кто-то расценивает как уступки этим силам, которых многие боятся. Но опять же это мое предположение.
— Число уголовных и административных политических дел будет расти в России?
— Я не знаю, будет ли оно расти, но вряд ли оно будет уменьшаться. На сегодняшний день, к сожалению, нет ничего, что позволяло бы нам надеяться на то, что политические преследования закончатся. Но мы видим, что пока этот инструмент используется и, возможно, тем, кто его использует, он кажется весьма эффективным и приносящим какие-то результаты. Может быть, не такие хорошие, может быть, не удается пока заткнуть всех, но в целом какая-то доля фрустрации в обществе есть. Эти дела безусловно вгоняют людей в депрессию. Это типичная психология насильника, чтобы заставить жертву почувствовать, что от нее ничего не зависит, что она ничего не может, что будет так, как он сказал. И поэтому для активной части российского общества важно не поддаваться на это. Надо понимать, что им именно это и надо, значит, надо дальше идти своей дорогой. Ничего страшного, мы идем дальше. Завтра (интервью записано в понедельник 28 сентября –прим. ЖН) я поеду к Косте, мы с ним пообщаемся, я пообщаюсь с оперативниками колонии, просвещение никуда не уходит. Пока я часами жду, я часто использую время для того, чтобы рассказать им, они интересуются, спрашивают…
— О чем спрашивают оперативники?
— Всем интересно про Навального и Беларусь.
— Как оперативники, с которыми вы общаетесь, относятся к Навальному?
— Они не выражают своего мнения открыто, они слушают. Я по глазам вижу, что им интересно.
— Я все время слышу, что в России нечестные судьи, нечестные прокуроры, нечестные следователи. А есть честные?
— А что мы подразумеваем под честными и нечестными? Некоторые честно говорят: но вы же понимаете…
— Я имею в виду, что это люди, которые добросовестно выполняют свою работу, в соответствии хотя бы с действующимзаконом. Можно спорить о справедливости и несправедливости тех или иных законов.
— Знаете, я не могу ответить на этот вопрос, потому что в России очень много следователей, судей, и Россия очень большая, и в некоторых регионах я даже ни разу в своей жизни не была, в других была один раз, поэтому вот так сейчас говорить о России я не могу.
— Из вашей практики.
— Надо сказать, что у нас специфическая практика и определенный угол зрения. В некотором роде есть профессиональная деформация. Когда ты встречаешься с правозащитниками, с людьми, которые занимаются политическими делами, то слышишь разговоры о том, что у нас сажают исключительно невиновных, но это же не так. Совершаются десятки и сотни тысяч преступлений и они расследуются. Некоторые расследуются быстро и эффективно, другие не так удачно, но они расследуются. Очень много людей, которые посягнули на чью-то жизнь, посягнули на чью-то собственность, и их ловят, и их сажают.
Другое дело, конечно, что их очень слабо или никак не перевоспитывают, потому что систему ФСИН надо полностью менять. Следователи, которые мне встречаются по политическим делам, очень часто не любят говорить со мной про наши политические дела, но с радостью и гордостью рассказывают про свои успехи на ниве, например, раскрытия убийств. Многим нравится рассказывать, как они выявили какую-то банду, как они нашли потерявшегося ребенка. У них есть свои дела, которыми они гордятся, которые они, по крайней мере, некоторые из них делают добросовестно и хорошо. И в этом смысле они тоже приносят обществу пользу.
Поэтому, конечно, очень хочется всех этих людей собрать. И как только кончится Covid, повозить по миру, показать, рассказать многие вещи, о которых они не знают, не слышали и, к сожалению, не читали. Но многие из них невыездные.
Другое дело, конечно, что их очень слабо или никак не перевоспитывают, потому что систему ФСИН надо полностью менять. Следователи, которые мне встречаются по политическим делам, очень часто не любят говорить со мной про наши политические дела, но с радостью и гордостью рассказывают про свои успехи на ниве, например, раскрытия убийств. Многим нравится рассказывать, как они выявили какую-то банду, как они нашли потерявшегося ребенка. У них есть свои дела, которыми они гордятся, которые они, по крайней мере, некоторые из них делают добросовестно и хорошо. И в этом смысле они тоже приносят обществу пользу.
Поэтому, конечно, очень хочется всех этих людей собрать. И как только кончится Covid, повозить по миру, показать, рассказать многие вещи, о которых они не знают, не слышали и, к сожалению, не читали. Но многие из них невыездные.
— Вы сейчас про следователей или про всех сразу?
— Про следователей, про прокуроров, про судей. Просто показать им мир, которого они не видят, про который они часто черпают информацию из федеральных телеканалов, к сожалению. Показать, как работают их коллеги в других странах и рассказать про права человека. И не пафосно, а по-человечески, нормально, дать им понять, почему это так важно. Мне кажется, что многие не до конца даже понимают, что они совершают преступление, когда участвуют в привлечении заведомо невиновных. Мне кажется, что многие из них просто гонят от себя эту мысль и предпочитают сосредоточиться на том, как они классно раскрыли какое-то убийство, как они спасли чью-то жизнь. А о другом не думать, спихивая это все на волю начальства и оправдывая себя тем, что, если бы я отказался, то дело поручили бы другому, и все равно оно было бы возбуждено, поскольку такова воля высокого начальства.
— Как реагируют судьи, когда они становятся известными в силу того, что участвуют в резонансных политических процессах?
— Со мной судьи очень редко разговаривают за пределами процесса. Но недавно целых два судьи спросили, следует ли ожидать люстрации. Меня это удивило, потому что раньше такого и близко не было.
— Они испугались?
— Я не знаю, но их интересовал этот вопрос.
— Что вы ответили?
— Я ответила, что ведутся споры, нужно ли всех люстрировать или, может быть, не всех, пока нет единой точки зрения, но многие выступают за люстрацию.
— Но это интересно, что вам именно такой вопрос задали.
— Меня саму это приятно удивило. Если раньше, это опять же моя интерпретация, всем этим людям казалось, что система навечно, то такие вопросы демонстрируют то, что они задумываются, а может быть, и не навечно. Если тебе кажется, что система навечно, тебе неважно, что будет после, потому что после не будет ничего, а будет только то, что сейчас. Кто-то из них начинает понимать, что возможно некое после. Я стала это замечать в последний год.
Поделитесь этим интервью в своих соцсетях: